Одна из любопытных особенностей развития интеллектуальных кругов последних нескольких лет заключается в том, что тема империализма перестала быть исключительной собственностью левых. Конечно, пока были сильны колониальные империи, никто не отрицал реальность европейской и американской имперской экспансии. Но в эпоху, наступившую после окончания Второй мировой войны, когда деколонизация охватила весь «третий мир», а формальные механизмы колониального правления пали, любые утверждения о значимости империализма стали отождествляться с левыми идеологиями.С приходом к власти Джорджа Буша-младшего ситуация резко изменилась. Серьезное обсуждение империализма — не вообще, а применительно к Америке — внезапно приобрело вес в интеллектуальном мире. Исследования «нового империализма» — книги и журнальные статьи — выходят теперь одна за другой.
Одна из любопытных особенностей развития интеллектуальных
кругов последних нескольких лет заключается в том, что тема империализма
перестала быть исключительной собственностью левых1. Конечно, пока были сильны
колониальные империи, никто не отрицал реальность европейской и американской имперской
экспансии. Но в эпоху, наступившую после окончания Второй мировой войны, когда
деколонизация охватила весь «третий мир», а формальные механизмы колониального правления
пали, любые утверждения о значимости империализма стали отождествляться с
левыми идеологиями. Если тема империализма и обсуждалась, то только в связи с
советскими или вообще коммунистическими имперскими амбициями.
С приходом к власти Джорджа Буша-младшего ситуация резко
изменилась. Серьезное обсуждение империализма — не вообще, а применительно к
Америке — внезапно приобрело вес в интеллектуальном мире. Исследования «нового
империализма» — книги и журнальные статьи — выходят теперь одна за другой и
выражают взгляды крайних сторон политического спектра. После 1989 года стало
ясно, что Соединенные Штаты искали способ сохранить свое влияние в Европе и на
Юге — об этом заговорили сразу же после того, как призрак советской угрозы покинул
сцену. Правда при Клинтоне в этой стратегии не было того воинственного и
мессианского настроя, который появился с приходом команды Буша. И хотя переход
к односторонности и отказ от старых соглашений уже начались,2 открытая агрессия
администрации Буша для всех оказалась неожиданностью.
Подобные удивление и глубокая обеспокоенность явно видны в
новой книге Майкла Манна. Известный макросоциолог Манн на протяжении двух
десятилетий работает над грандиозным проектом по истории власти. Две книги,
вышедшие ранее, содержат серьезные обобщения и охватывают несколько веков.
Именно воинственность команды Буша, поддержанная лояльным Блэром, заставила его
на время оставить свой основной проект и предложить проницательный анализ
«нового империализма». Схожие настроения выражает и неутомимый Ноам Хомский:
«редко— если такое вообще бывало — выбор между [американской] гегемонией и
выживанием [мира] вставал с такой остротой». На открытое стремление к
господству указывает также Эндрю Басевич, аналитик, сочувствующий консерваторам,
для которого война с террором после 11 сентября 2001 года, несмотря на риторику,
является «войной за империю». Примечательно, что этот поток исследований
появился почти сто лет спустя после выхода классических работ об империализме,
которые стали откликом на имперское строительство и военную агрессию. За два
года до выхода своего классического труда «Империализм» (1902) Джон Гобсон
предложил собственное объяснение англо-бурской войны, которое и по сей день вызывает
острые разногласия. В основу аргументации Гобсона был положен тезис о том, что
война в той или иной степени отвечала финансовым интересам Сити и
поддерживалась британскими капиталистами из горнодобывающей промышленности.3
Речь шла о своеобразном политическом объяснении имперской
экспансии; группы, контролирующие государственную политику, определяли
завоевание — Гобсон еще не описал его как результат системных проблем
капиталистической экономики. Именно с выходом «Империализма» Гобсон предложил
структурное объяснение, связавшее экспансионистские действия с попыткой найти решение
глубоких и системных проблем капиталистического накопления. Во всем, конечно
же, была виновата будто бы хроническая проблема недопотребления, которая вела к
избытку капитала перед возможностями внутренних инвестиций.
Две грани Гобсона
Примечательно, что несмотря на чрезвычайно подробное
изложение в «Империализме» этой второй идеи, Гобсон по-прежнему продолжал
использовать политическое объяснение, причем в том же самом тексте. В этом, конечно,
нет ничего удивительного, если исходить из того, что существует более глубокое
структурное объяснение империалистической экспансии. Наличие структурных сил — глубоких
функциональных потребностей экономики,— требующих экспансионистских действий,
повышает вероятность того, что группы, заинтересованные в такой политике, будут
занимать высокие посты в государстве. Государства не могут оставаться
невосприимчивыми к структурным потребностям своего экономического базиса.
Значение используемого Гобсоном политического аргумента заключается в том, что если
вы не согласны с тезисом о недопотреблении или любым другим тезисом, обращающимся
к основополагающим системным потребностям капитализма, то существует второй
механизм для объяснения имперской агрессии. На этом моменте следует
остановиться подробнее, потому что здесь можно заметить определенный сдвиг,
появившийся в новых исследованиях империализма, ровно сто лет спустя после
классического анализа Гобсона. После выхода «Империализма» такие влиятельные
мыслители, как Гильфердинг, Люксембург, Ленин и другие деятели II Интернационала,
перешли от политических теорий империализма к системным и экономическим. По
сути, отличительной особенностью этих работ является почти полное отсутствие в
них какого-либо рассмотрения политики или политического опосредования глубоких
экономических сил, лежащих в основе имперских проектов. Речь в них идет о
простой детерминации, связанной с экономической основой этого явления.
В этом состоит основное различие между «старыми» и «новыми»
теориями империализма. Дело не в том, что структурные ограничения вдруг
сталисчитаться неважными. Скорее, они стали некой неявной посылкой анализа:
присутствующей, но не особенно осмысляемой теоретически. За выдающимся
исключением работы Дэвида Харви «Новый империализм», роль системных ограничений
капитализма попросту не рассматривается как объекттеоретического исследования.
Намного лучше развит второй аспект наследия Гобсона—исследование политики,
лежащей за имперскими амбициями Соединенных Штатов, либо в форме заинтересованных
групп, либо в геополитических дилеммах мира после окончания холодной войны.
Наличие стоящей за всем этим громадной фигуры капиталистической экономики считается
само собой разумеющимся и не требующим какого-то специального теоретического
рассмотрения. Лучше всего эта мысль была выражена Хомским, который заявил, что,
учитывая структурное влияние крупного бизнеса в капиталистической политической
экономии, «вполне естественно, что государственная политика должна стремиться
создать мировую систему, открытую для американского экономического
проникновения и политического контроля и нетерпимую к возможным угрозам».4
Принимая во внимание особое положение предложенного Харви
анализа в нынешнем потоке исследований, полезно рассмотреть, каким образом он
связывает империализм с функциональными потребностями капитализма. Совершенно
очевидно, что в своих построениях «Новый империализм» опирается на классические
марксистские теории; Харви явно считает имперскую экспансию ответом на глубокие
экономические потребности, свойственные капитализму. Но в его книге также видно
влияние теории государства, разработанной «новыми левыми» в 1970-х годах. Для Ленина
и Люксембург государство не было независимым фактором объяснения империализма
главным образом потому, что они придерживались несколько упрощенных
представлений об отношениях государства и капитала. В ленинском рассмотрении
всего многообразия факторов, которыми руководствовались империалистические
державы, государство практически полностью отсутствует, что во многом, на мой
взгляд, связано с предположением: государства в основном делают то, что говорят
им их капиталисты. Поэтому, с точки зрения Ленина, с появлением в развитых
экономиках картелей и трестов и зарождением идеи раздела мира между ними
государства берут на вооружение этот империалистический проект. Этот подход нашел
свое отражение в экономистском анализе внешней политики Соединенных Штатов,
когда за каждым политическим решением начинался поиск бизнес-групп, которым
выгодно такое решение.
Харви не утверждает, что государства заботятся прежде
всего об удовлетворении основных интересов капиталистов. Хотя он утверждает,
что государства вообще восприимчивы к различным расчетам и бывают весьма
восприимчивыми к нуждам фирм, иногда они отказываются уступать требованиям
капиталистов. Здесь имеет место простой перенос на внешнюю политику идей
структуралистских теоретиков государства относительно внутренней политики — государства
действуют в интересах класса капиталистов, но не по их указке. По Харви,
главное — это выявить связи, которые приводят к трансформации этой заботы об
интересах капиталистов в империалистическую внешнюю политику. Считается, что
государства имеют интересы и цели, отличные от интересов и целей капиталистов. Если
государства заинтересованы в увеличении своей власти над территориями, людьми и
ресурсами — Харви называет это «территориальной» или «политической» логикой
власти,— то капиталисты заинтересованы в увеличении своего контроля над рынками
и факторами производства. Все заинтересованы в экспансии — и когда такие интересы
совпадают, наиболее вероятным результатом окажется переход к империализму. Эта
теория определенно учла уроки Вьетнама. Нельзя утверждать, что разорение
Америкой этой страны было вызвано непосредственными экономическими интересами
многонациональных инвесторов. Единственным здравым объяснением кажется
геополитическое: разработчики политики в Соединенных Штатах настаивали на необходимости
сохранения Вьетнама в области экономического влияния своих союзников —
поначалу, как части французской империи, а позднее — как части возрожденной
японской «сферы совместного процветания». 5
В обоих случаях государство действовало в интересах своих
капиталистов, но весьма опосредованным образом. Интересы американских
капиталистов были тесно связаны с восстановлением европейских и японских
капиталистов, а Вьетнам, как считалось, был очень важен для этих групп. На
самом деле разработчики американской политики на протяжении десяти лет,
прошедших после окончания Второй мировой войны, поддерживали соперничающие империи
там, откуда они могли быть изгнаны — Юго-Восточная Азия, Африка и особенно
Ближний Восток — иногда вопреки
интересам американских капиталистов, которые надеялись воспользоваться
прекрасной возможностью занять освободившееся место.6
Это сложно объяснить, если не признать, что разработчики
политики обладали значительно большей автономией, чем считали Ленин и
Люксембург. Харви старательно подчеркивает, что государственные чиновники не
являются простыми ставленниками капиталистов. Но внимание его книги, конечно,
сосредоточено на причинах того, почему первые во внешней политике, как правило,
поддерживали «своих» капиталистов. Харви выдвигает весьма убедительный довод о
том, что альянс с капиталом обусловлен тем, что капиталисты, отвечающие за
принятие инвестиционных решений, контролируют ресурсы, необходимые государствам
для удовлетворения своих особых интересов — экспансии, обороны и соперничества с
другими государствами. Конкуренция между капиталистами из различных регионов
также вызывает политическую борьбу между государствами, в которой каждое
государство использует рычаги дипломатии против конкурирующих коалиций
государств и капиталистов.7
Для этого не нужно, чтобы бизнесмены действительно завладевали
государственными институтами для достижения своих целей, хотя Харви признает,
что иногда такое случается.8
Общая динамика сохраняется даже тогда, когда коридоры власти
закрыты для отдельных капиталистов. Поэтому некоторое недоумение вызывает
решение Харви сделать следующий шаг и придать большее объяснительное значение
капиталистическим кризисам как механизму, лежащему в основе империализма.
Отметив, что капиталистическая конкуренция втягивает в свой водоворот и
государства, он утверждает, что империалистические практики на самом деле
вызваны не столько развитием конкуренции, сколько стремлением найти применение
инвестициям, когда местные возможности оказываются исчерпанными. С точки зрения
Харви, империализм на самом деле обусловлен проблемами перенакопления в
капитализме.9
Капитализм, утверждает он, подвержен периодическим кризисам,
вызванным избытком капитала и недостатком возможностей для прибыльных инвестиций.
Во время кризисов излишки, накопившиеся у инвесторов, должны либо найти
какой-то прибыльный выход, либо столкнуться с серьезным обесцениванием. Выход вовне,
в другие регионы, вызван желанием избежать обесценивания не вложенных в дело
активов.
Совершенно непонятно, почему Харви считает кризисы «сутью
проблемы». Если вопрос состоит в объяснении империалистических амбиций, то
достаточно показать, что государства стремятся сохранить и увеличить превосходство
«своих» капиталистов над капиталистами из других регионов. Использование
дипломатии для расширения области деятельности «своих» капиталистов
представляет собой вполне предсказуемый и закономерный результат развития
капитализма. Конечно, такое давление усиливается во время кризиса. Но факторы,
которые способствует такому развитию событий, нельзя считать его основой. К тому
же при обращении к послевоенной истории — период, который Харви рассматривает в
своей книге наиболее подробно, — трудно найти веские основания для того, чтобы
придавать такое значение кризису. Темпы американской экспансии в мире развивающихся
стран оставались более или менее одинаковыми на протяжении всего периода.
Конечно, с середины 1970-х годов Бреттон-Вудские институты стали использоваться
как некий таран для открытия рынков. Об этом периоде кризиса и говорит Харви. И
хотя он подстегнул развитие проекта имперской экспансии, нельзя сказать, что он
запустил сам процесс.
Буш и новый империализм
Если оставить теорию кризиса, то империализм у Харви
окажется результатом нормального развития конкуренции — между государствами и
между фирмами — в современную эпоху. Фирмы пытаются расширяться в новые регионы
и нуждаются в помощи государства; государства же пытаются получить преимущество
на международной арене и нуждаются в средствах, контролируемых капиталистами.
Это вполне согласуется с тем полюсом гобсоновского анализа, который был назван
мной «политической» теорией. Та же посылка, по-видимому, лежит в основе анализа
Хомского, Манна, Басевича и многих других. Этот полюс гобсоновского наследия
является общим местом в сегодняшних исследованиях империи.
Такие «теории» не слишком глубоки. Но нам не следует делать
вывод о том, что изучение империализма зашло в тупик. Это означает лишь то, что
реальная аналитическая работа связана теперь не с построением теории как
таковой, а с историческим и институциональным — то, что иногда называют
«среднеуровневым», — осмыслением. Анализ современного империализма как общего
явления вряд ли приведет к новым теоретическим открытиям; но его формы, темпы
его распространения, средства, используемые им, и его границы в определенные периоды
требуют глубокого изучения. Не удивительно, что именно в этой области появились
лучшие работы. Практически все серьезные исследования нового империализма
поднимают три основных вопроса: степень, в которой Буш представляет разрыв с
прошлыми нормами американской политики; место новой империи в истории господствующих
держав; и границы американской силы относительно ее целей и границы, с которыми
сталкивались другие империи. Никто из исследователей нового американского
империализма не считает, что проект начался с приходом к власти Буша-младшего.
В таком случае возникает вопрос, что нового в программе Буша, если в ней вообще
есть что-то новое? Не только среди исследователей, но и в мировом общественном
мнении распространено убеждение, что с назначением Буша на должность президента
решением судьи Ренквиста что-то изменилось. Чаще всего говорят о новом
империализме в международных отношениях и милитаризме администрации Буша.
Грязная история с нападением на Ирак, сознательное пренебрежение Организацией
Объединенных Наций, объявление явно не ограниченной временем войны с
неназванными врагами — вот только некоторые примеры обращения администрации к
этой тактике.
Приход Буша к власти, по-видимому, связан с отказом от
политических инструментов, которые использовались его предшественниками. Манн,
возможно, наиболее близко подходит к этой идее. Он признает, что формально многосторонние
институты, унаследованные от холодной войны, — НАТО, ООН, СЕАТО и так далее — находились
и продолжают находиться под серьезным влиянием Соединенных Штатов. В этом
качестве они превратились в инструменты осуществления американских имперских амбиций,
а не в по-настоящему совещательные органы. Многосторонность в этом случае
означает просто совместные действия, направленные на осуществление имперских
амбиций Америки. Кроме того, они могут оказаться более эффективными средствами осуществления
глобального контроля и влияния: вмешательство при поддержке ООН «позволяет
использовать иностранные базы и союзные войска, получать средства, необходимые
для финансирования всего предприятия, и, наконец, оно просто становится
легитимным».10
Но зачем вообще обращаться к односторонности, если многосторонность
прекрасно отвечает имперским амбициям? Манн приводит два вполне правдоподобных
объяснения: тактическое и стратегическое. Тактически поставленных целей не всегда
можно добиться при помощи многосторонних действий. Этим, с точки зрения Манна,
объясняется окончательный отказ Буша от многосторонней стратегии в вопросе об
Ираке. Страны, входящие в Совет Безопасности, и многие страны Ближнего Востока
просто не согласились с доводами администрации относительно угрозы, которую представляет
Хусейн для их безопасности. Когда стало ясно, что с Советом Безопасности такое
не пройдет, команда Буша решила вообще обойтись без него. Более важен сдвиг,
произведенный Бушем в стратегических представлениях, лежащих в основе
американской внешней политики. Неоконсерваторы, составляющие значительную часть
администрации Буша, отталкиваются от идеи о том, что даже символическое
признание институтов холодной войны стало совершенно ненужным. Мы живем в эпоху
того, что Чарльз Краутхаммер назвал «однополярным моментом», когда Соединенные
Штаты достигли неоспоримого превосходства в международных отношениях. Зачем,
обладая таким влиянием, делать вид, что ценишь что-то несуществующее или
что-то, что никогда не будет использовано?
К тому же очевидно, что старые
союзники будут чаще, чем следовало бы, выступать против использования силы
Америкой. С точки зрения неоконсерваторов, утверждает Манн, мировой порядок в
своей основе является гоббсовским. Исчезновение советского блока позволяет
привести этот мир в порядок, если не навсегда, то по крайней мере на какое-то
время. И никакие союзы и институты прошедшей эпохи не должны помешать
Соединенным Штатам воспользоваться такой возможностью. Односторонность,
согласно этой аргументации, — это не политика последнего средства; она
представляет собой новый стратегический подход, отвечающий требованиям времени
и месту Америки в мире. Манн связывает возникновение этой гордыни с поистине невероятным
военным превосходством Соединенных Штатов над своими соперниками. Неким общим
местом, возможно, даже порядком наскучившим, стало утверждение о том, что
превосходство Америки в военном отношении является чем-то из ряда вон выходящим
и невиданным в мировой истории. Манн утверждает, что это придало внешнеполитической
элите осознание того, что военная сила, а не дипломатия, составляет теперь ее
сравнительное преимущество в международных отношениях.Здесь важно отметить два
момента: прежде всего, невероятное военное превосходство Америки сделало
компромисс ненужным; кроме того, появилось убеждение, что благодаря использованию
новейших высокоточных и высокотехнологичных вооружений американцы смогут
побеждать без потерь.11
Естественным следствием милитаризации внешней политики стало
ослабление традиционных органов, отвечающих за дипломатию (например,
государственного департамента), и усиление Пентагона, Объединенного комитета
начальников штабов и Совета национальной безопасности. Наиболее очевидным
свидетельством этого стала полная маргинализация Колина Пауэлла в «узком
кабинете» Буша при подготовке вторжения в Ирак. Описание Полом О’Нейлом встреч этого кабинета на первом году
работы администрации только подтверждает такое впечатление: реальные решения принимались
на закрытых совещаниях вне кабинета с участием Рамсфелда, Чейни и иногда Райс,
причем Пауэлл всегда оставался на периферии. 12
Эта иерархия была еще более заметной во время оккупации
Багдада, когда, как только начались неудачи, выяснилось, что Пентагон попросту
проигнорировал планы государственного департамента и других органов относительно
мирного управления Ираком. В дальнейшем именно Пентагон выдвинул программу
реконструкции. 13
Манн считает приход Буша реальной поворотной точкой в этом
развитии. Он не считает, что тяга к милитаризму появилась вместе с Бушем; на
самом деле рубежным он называет 1993 год, поскольку именно тогда Клинтон объявил
о новом дипломатическом подходе в своем выступлении в военной академии
«Цитадель» — подходе, который считает силу не «последним средством», а открытой
возможностью, когда другие кажутся «менее осуществимыми». Но это, утверждает
Манн, означает «дрейф» к большей агрессивности, а не подлинный поворот к
империалистической политике. До Буша-младшего американские военные кампании
были, в сущности, реактивными, то есть они были реакцией на угрозы, руководствуясь
«прагматическим и оборонительным представлением о военной силе».14
И только с приходом к власти Буша и его соратников-«плешивых
ястребов» произошел реальный переход от оборонительного и прагматического использования
военной силы к наступательному. Мог ли Клинтон решиться на вторжение в Ирак?
Предположения, наподобие этого, чрезвычайно трудно обосновать, но, вероятно,
можно без больших опасений сказать, что он бы так не поступил. Не следует
забывать общую идею Манна о том, что поворот к милитаризму произошел с появлением
Буша и что при Клинтоне использование силы было «прагматическим и
оборонительным». Вполне возможно, что Буш и его команда проводили политику и
преследовали цели, от которых демократическая администрация — или даже менее
воинственная республиканская — предпочла бы дистанцироваться. Но речь здесь может
идти о различиях внутри более широкой приверженности милитаристской и
империалистской политической программе. Суть, по-видимому, состоит в том, готов
или нет был американский внешнеполитический истеблишмент использовать свою
военную силу — и все другие свои инструменты — для установления господства над другими
странами и проведения в жизнь своей программы. Манн справедливо
противопоставляет прагматическое и оборонительное использование силы
наступательному; но непонятно, почему такое разграничение должно описывать
расхождение в стратегических представлениях Клинтона и Буша.
От Холодной войны к
новому империализму
Наиболее убедительное обоснование того, почему приход к
власти Буша-младшего следует считать поворотным моментом в истории американского
милитаризма, было предложено в превосходной книге Эндрю Басевича «Американская
империя». Басевич, как и Манн, признает, что американская политика становилась
все более милитаристической и, следовательно, империалистической. Но переход, с
его точки зрения, произошел в два этапа: сначала с падением советского блока
исчез единственный реальный противовес американской гегемонии, а затем при правлении
администрации Клинтона все большее значение в американской внешней политике
стало придаваться военной силе. Падение Советского Союза по праву занимает
центральное место в рассуждениях Басевича; удивительно, что Манн не уделяет ему
в своем анализе сколько-нибудь серьезного внимания. Но в этом случае закономерно
возникает вопрос: почему с исчезновением реального соперника Соединенные Штаты
не воспользовались появившейся возможностью для консолидации своей глобальной
силы?
Басевич мог бы сказать, что во времена холодной войны внешняя политика
определялась оборонительными соображениями, связанными с предотвращением
советской экспансии. Но он этого не делает. Если бы это было так, то с уходом
Советов американские политики стали бы вести себя более агрессивно на мировой
арене. Они этого не сделали. На самом деле они поступили более логично: американская
элита воспользовалась возможностью для того, чтобы осуществить давно чаемые
цели. И они, по его утверждению, были двоякими: открытие мировой экономики и
превращение Соединенных Штатов в преобладающую в политическом и экономическом
отношении державу. Окончание холодной войны позволило Соединенным Штатам вновь
обратиться к экспансии, которой ранее мешало соперничество с восточным блоком. Выдвигая
такой аргумент, Басевич, заявляющий о своей симпатии к консерваторам, опирается
на почтенную традицию прогрессивного социального анализа. И хотя он начинает
свою книгу с выражения признательности Чарльзу Берду и Уильяму Аппельману Уильямсу,
современником, с которым он, по-видимому, имеет больше всего общего, является
не кто иной, как Ноам Хомский. Как и Басевич, Хомский не считает приход Буша-младшего
к власти свидетельством исторического сдвига в американской стратегии.
Он произошел раньше — при Буше-старшем, но очевидным стал при
Клинтоне. Решающее значение здесь имеет природа этого сдвига. Дело не в принципах,
лежащих в основе политики, и не в ее целях: они оставались неизменными не
только на протяжении холодной войны, но и до нее — в течение всего столетия.
Изменилась среда, в которой осуществлялась политика, и инструменты, используемые
для достижения целей. Большое значение для этого сдвига в среде имело, конечно
же, окончание холодной войны, вместе с которой со сцены ушла другая
сверхдержава. Статус Соединенных Штатов как единственной сверхдержавы
предоставил историческую возможность усилить свою гегемонию в обозримом будущем.
Буш-старший явно не понимал, как этого можно достичь. Он смутно осознавал, что
основной задачей должно быть создание норм, которые обеспечат американское
превосходство в международных отношениях. Но Бушу, владевшему только
дипломатией холодной войны, недоставало ясности и решимости, чтобы выработать
стратегию американского господства. Это произошло с приходом к власти Клинтона.
Тем не менее, как отмечает Басевич, Буш «озвучил многие пункты, которые Билл
Клинтон впоследствии свел в единую программу и бесконечно повторял на
протяжении двух своих президентских сроков» (p. 69).
Интересно, что, как и Манн, Басевич называет 1993 год
поворотным в этом процессе. Но, в отличие от Манна, он утверждает, что именно
тогда и началась консолидация экспансионистского и милитаристского проекта. Не
нужно было дожидаться прихода к власти Джорджа Буша-младшего. Наиболее явным
свидетельством этого послужила речь клинтоновского советника по национальной
безопасности Энтони Лейка в Университете Джона Хопкинса под названием «От
сдерживания к расширению». В своем выступлении Лейк заявил, что «оборонительный
этап американской стратегии, который всегда считался временным, завершился» (p.
98). Теперь должна проводиться более активная политика, открыто преследующая
американские интересы. Лейк не уточнил, какие именно инструменты должны были использоваться
для проведения в жизнь этого нового подхода и для обеспечения американского господства.
Во всяком случае, до избрания военной силы в качестве естественного средства для
выполнения этой задачи было недалеко. Ведь если задачей было обеспечение
американской гегемонии в мире, превращение себя в основного арбитра в
международных конфликтах — «незаменимую нацию», по выражению Олбрайт, — то
Соединенные Штаты вполне могли обратиться к ресурсу, который имелся у них в
избытке. Поэтому два клинтоновских президентства привели к «беспрецедентному
уровню военной активности».15
В институциональном отношении принятие такого подхода
привело к серьезному усилению Пентагона и всего военного аппарата. Все утверждения
о том, что оборонный истеблишмент на самом деле служил оборонным целям, были
постепенно отвергнуты в 1990-х годах. Переход от «сдерживания» к «расширению»,
повторявший призыв к «расширению» Лейка, был официально признан Пентагоном и Объединенным
комитетом начальников штабов, которые объявили об этом в своем документе
«Единая перспектива 2010», подготовленном в 1996 году. После этого военный аппарат
мог активно проводить, как выразился Клинтон, «формирование международной
среды» в интересах Соединенных Штатов.16
И для этого нужны были решительные действия. При этом большинство
членов Демократической партии совершенно иначе представляло себе задачи,
выполнением которых должен был заниматься оборонный истеблишмент. Основной
задачей Пентагона было не обеспечение обороны, а расширение американской власти
и влияния. Таким образом, холодно констатирует Басевич, «министерство обороны
завершило свое превращение в министерство демонстрации и применения силы».17
Прежде всего необходимо было понять, какими должны были быть
новые нормы международных отношений. Разобравшись с этим, американские политики
озаботились укреплением этих норм. Основное место среди них занимал принцип, в
соответствии с которым Соединенные Штаты были главным арбитром в международных
отношениях. И поэтому важнейшей проблемой было убеждение в серьезности своих
намерений: простых заявлений о своей силе было недостаточно — Соединенные Штаты
должны были осуществлять «показательные действия» (Хомский), направленные на
демонстрацию необычайной силы, способной причинить огромный вред тем, кто
осмелится бросить ей вызов.18
Они, конечно, были направлены главным образом против
непокорных государств — таких, как Ирак, Сербия, Панама, Сомали и так далее.
Кроме того, они были призваны показать, что международное право и
многосторонность отходят на второй план, когда на кону стоят американские
интересы. Поэтому для обеспечения главенства Соединенных Штатов необходимой
была коренная перестройка старых институтов и создание доверия к ним. Так,
Клинтон предпочел не обращать на ООН никакого внимания в критических ситуациях.
Во время вмешательства в Сомали американские войска просто игнорировали миссию ООН,
ответственную за проведение операций в этой стране. И не потому, что она
каким-либо образом мешала действиям Соединенных Штатов; на самом деле, как
отмечает Басевич, миссия ООН находилась под контролем американцев. Америка
просто хотела показать международному сообществу свою готовность к решительным
действиям (pp. 142–144). В случае с бомбардировками Сербии Клинтон вновь
обратился к НАТО, а не к Совету Безопасности, показав, что мнение международного
сообщества не имеет решающего значения, а Китай и Россия не предприняли никаких
действий, чтобы помешать этим бомбардировкам. Кроме того, и Хомский, и Басевич глубоко
сомневаются, что кампания против Милошевича была продиктована гуманитарными
соображениями. Несмотря на зверства, которые имели место до бомбардировок, они
утверждают, что по-настоящему серьезные проблемы и этнические чистки начались
после ударов Соединенных Штатов. Подлинным мотивом было не прекращение убийств,
а усмирение непокорных региональных правителей при помощи недвусмысленной
демонстрации силы.
Любопытно, что именно Басевич, а не Хомский, предлагает
более тщательный анализ ключевой роли Клинтона в этой драме. Читатель, который
ожидает увидеть в «Гегемонии или выживании» глубокий анализ нового империализма
в эпоху, наступившую после холодной войны, будет разочарован. В этой книге
содержится скорее изложение новых фактов, чем тщательное рассмотрение самого
явления. Но это вовсе не обусловлено его сложностью. Глубокий анализ новой империи
был дан Хомским более десяти лет тому назад в его «Ограничении демократии» и
«Годе 501», а затем дополнен анализом кампании против Милошевича в «Новом
военном гуманизме». Многие аргументы, приводимые Басевичем в «Американской
империи», ранее уже выдвигались в книгах Хомского, безупречных с точки зрения
логики и опоры на факты. В каком-то смысле работы Хомского не были оценены по
достоинству: развитие событий в мире на протяжении полутора десятилетий, прошедших
с 1989 года, по всей видимости, полностью подтверждает справедливость его
анализа — «сдерживание» было идеологическим прикрытием реальных устремлений
американской политики, изначально определявшейся «расширением». Крах восточного
блока просто устранил препятствие, стоявшее на пути к этой заветной цели, и только
потом появились идеологические обоснования. Поэтому неудивительно, что он не
говорит об этом в «Гегемонии или выживании»: для Хомского в этом нет ничего
нового.
Если обращение к одностороннему подходу и милитаризму
произошло при Клинтоне, что нового произошло с приходом к власти Буша-младшего,
если, конечно, вообще произошло что-то новое? И Басевич, и Хомский видят нечто
новое, хотя и называют различные вещи. Согласно Басевичу, отличие состоит в
позиции Мадлен Олбрайт, воинственного госсекретаря Клинтона. С одной стороны,
именно Олбрайт упрекала Пауэлла за его миролюбие, спросив: «В чем смысл иметь
такую огромную армию, если вы всегда говорите, что мы не можем ее
использовать?»19
С другой стороны, утверждает Басевич, Олбрайт, скорее, была
готова использовать военную силу для угроз и принуждения, чем для ведения
открытой войны. Можно сделать вывод, что отличие Буша состоит в его готовности
сделать следующий шаг и использовать американские войска в более длительных и более
согласованных операциях.
С точки зрения Хомского, отличие несколько тоньше.
Американские администрации использовали силу, нарушали международное право и
пренебрегали дипломатическими институтами и во времена холодной войны. Хомский
приводит выступление Дина Ачесона в 1963 году перед Американским обществом за
международное право, в котором Ачесон говорит, что, когда речь заходит о
«могуществе, положении и престиже» Америки, правовые соображения отступают на
второй план — Америка просто делает то, что считает нужным. И в том, что
касается свободы действий, которую оставляют себе политики, между Ачесоном,
Олбрайт и Рамсфелдом явно существует преемственность. Разница в том, что Ачесон
и другие говорили об этом в очень узких политических кругах, а Буш и его команда
«официально заявили о еще более крайней политике». На первый взгляд кажется,
будто, с точки зрения Хомского, реальное отличие состоит в том, что Буш
действует более открыто и неосмотрительно в своей имперской агрессии — он во
всеуслышание говорит то, о чем другие предпочитают молчать. Но здесь очень
важно уточнение, которое делает Хомский, говоря о «еще более крайней политике» по
сравнению с предыдущими администрациями. И здесь он расходится с Басевичем.
Возможно, разница между силой и войной как раз и состоит в том, что называется
«более крайней» политикой. Если вернуться к проблеме, поднятой Манном,
становится ясно, насколько его представление о Буше отличается от представлений
Басевича и Хомского. Все трое согласны с тем, что Буш-младший олицетворяет
более агрессивную и воинственную внешнюю политику, направленную на усиление американского
военного превосходства в мире. Разница в том, что последние двое не считают это
появлением милитаристского поворота в политике — они считают это развитием уже
существовавшей стратегии, которая проводилась Клинтоном во время его двух
президентских сроков. Кроме того, они считают милитаризм Клинтона превентивным
и стратегическим, а не прагматическим и оборонным.
Противоречия нового империализма
Несмотря на свой огромный арсенал, глобальный охват и
готовность его использовать, Америка по-прежнему остается, как утверждает Манн,
исторически слабой империей. Эта слабость обусловлена двумя обстоятельствами:
первое связано с неуместностью военной силы в современную эпоху, а второе
представляет сбой следствие самой этой силы. Военная сила неуместна, потому что
в конечном итоге реальная работа имперского строительства покоится на
политической силе — создании внешних альянсов и готовности нести издержки.
Американские войска могут вторгнуться в страну и свергнуть ее правителей, но
что дальше? Если военная победа переводится в долгосрочный контроль, местная политика
и социальные отношения должны отвечать интересам Соединенных Штатов. Военное
присутствие могло играть важную роль в достижении этой цели на протяжении предыдущих
двух столетий, но сегодня обстановка не позволяет сделать этого.
В эпоху, когда национальное государство и идея национальных
прав еще не получили широкого признания, для показательного подавления местных
восстаний, запугивания оппозиционных сил или просто принуждения местного
населения к покорности можно было использовать войска. Военная сила может
вмешиваться, когда недостаточно политического влияния.
Однако в современную эпоху, которую Манн называет эпохой
национальных государств, военная сила стала использоваться значительно реже.
Идея прав человека и прав нации слишком глубоко укоренилась в мировой культуре,
чтобы признать такие действия допустимыми. Для сохранения империи необходимо
иметь государства-клиенты, а не осуществлять прямое правление. Но и здесь с
ростом национализма возникают проблемы. Государства-клиенты, несмотря на
имперский контроль, по-прежнему остаются номинально свободными. И, будучи
таковыми, они вполне могут выражать несогласие или непокорность. В XIX веке
непокорные элиты можно было поставить на место при помощи силы — сегодня вследствие
культурного сдвига к национальным правам такие возможности опять-таки
ограничены. Во всяком случае, растущая милитаризация американской политики делает
невозможным использование политических механизмов для имперского строительства.
При создании имперских политических альянсов необходимо, чтобы клиенты видели
некую выгоду для себя и сознавали, что они участвуют в этом альянсе по своей
воле. Но как только военные угрозы начинают заменять собой убеждение, нити,
соединяющие альянсы, начинают разрываться одна за другой. Клиенты начинают
чувствовать себя оскорбленными, утрачивать легитимность в глазах своего населения
и выходить из альянсов. И чем чаще и решительнее используется сила, тем шире
распространяются враждебные настроения, тем слабее становится имперская
легитимность.
В этом и состоит ирония нового империализма. Он обратился к
милитаризованным формам контроля именно тогда, когда, в сравнении с предшествующими
эпохами, область его использования сузилась. Манн утверждает, что в
долгосрочной перспективе это означает, что Соединенные Штаты станут
империей-«непрошенным советчиком», то есть они будут давать указания,
устанавливать ограничения, которые никак не будут влиять на действия
государств-«клиентов». И если это произойдет, то Соединенные Штаты окажутся еще
более слабой империей, чем те, что существовали прежде.
Империя не может существовать в эпоху национализма. Это
звучит внушительно, даже правдоподобно, но все же не вполне убедительно.
Американская империя действительно не может быть территориальной, и она зависит
от политических альянсов. Но почему это нужно считать признаком слабости?
Нельзя признать очевидным и то обстоятельство, что территориальный контроль в
XXI веке является необходимой предпосылкой для продвижения американских
экономических и политических интересов. Контроль над государством важен, когда
нужны глубокие структурные изменения — при пролетаризации крестьян, установлении
рыночных товарных отношений, порабощении населения и так далее. Так обстояло
дело в XVIII и XIX веках и в этом заключалось главное противоречие
колониализма, как отмечал Маркс в заключительной главе первого тома «Капитала».
Неспособность создать рабочую силу, готовую работать за заработную плату не
позволит осуществить ни одно экономическое предприятие, не говоря уже о том,
чтобы извлечь из этого какую-то выгоду.Государственный контроль может быть даже
необходим в случаях, когда речь идет о торговцах, которые делают деньги,
получая монополию от государства и притесняя тем самым производителей.20
В этих случаях отсутствие контроля над правительством и пустые
советы вполне могут разрушить имперские замыслы. Но зачем нужен прямой
колониальный контроль, когда основные экономические предпосылки успешной капиталистической
интеграции уже созданы и выгода извлекается уже не из политического контроля
или предоставленных государством монополий? Для облегчения экспансии отечественных
фирм в новые регионы американскому государству нужно только обеспечить
открытость этих регионов для инвестиций, поскольку факторы производства уже
превращены в товар. Единственной помехой на этом пути оказываются социальные
группы, стремящиеся сохранить пространство для своих местных фирм, — экономические
националисты. Для победы над такими националистами аннексия не нужна. Нужно
просто оказывать поддержку другим группам, которые связывают свои интересы с
интеграцией с американскими фирмами и включением в более широкий глобальный капитализм.
И для взращивания таких групп, улучшения их позиций и изменения баланса в их
пользу имеется достаточно инструментов. Короче говоря, вовсе не очевидно, что
невозможность прямой колонизации других регионов является серьезным недостатком
американского имперского проекта.
Это делает милитаристский поворот, который произошел после
окончания холодной войны, еще более интересным. Басевич и Хомский совершенно
справедливо говорят о том, что американский проект был двояким: он был
направлен на установление политической гегемонии и открытие мира для
американского капитала. Такой подход позволяет понять, как две стратегии
согласовались друг с другом. Как отмечает Харви, территориальная логика власти
государства и экономическая логика капитала тесно взаимосвязаны. В эпоху, когда
все регионы мира внезапно открываются для инвестиций, американским фирмам, конечно
же, выгодно усиление влияния «своего» государства над остальными — оно
оказывается полезным при заключении торговых соглашений, налаживании работы
региональных экономических механизмов, проникновении на местный рынок и так
далее. Поэтому военное усиление в годы правления Клинтона можно объяснить не
только интересами самого государства, но и интересами американских
многонациональных фирм. Пока Соединенные Штаты могут использовать свои
политические мускулы для сохранения области действия своих многонациональных
фирм открытой, пока они могут обеспечить постоянные поставки необходимого сырья,
они никак не пострадают от того, что кто-то называет их «непрошенным
советчиком» глобального порядка. На самом деле это может даже быть незримым
источником силы, поскольку местным участникам некого обвинять в своих
неприятностях. Но вряд ли можно согласиться с тем, что обращение Буша к войне
также хорошо отвечает этой программе. Глобальная волна выступлений против войны
в Ираке и соответствующей культуры решения сложных вопросов простыми средствами
вполне может ослабить роль Америки как «непрошенного советчика». И она может
перерасти в неприятие другой стороны имперского господства — Соединенных Штатов
как экономического участника.
Серьезным недостатком американской империи
является сегодня переход от «дипломатии силы» в духе Олбрайт к более открытой
воинственной тактике Буша. Проблемы, с которыми она столкнется, прекрасно
описаны Манном — в эпоху национальных государств люди не готовы смириться с
произвольным нападением одной нации на другую. Вполне возможно, что из-за
тупиковой ситуации в Ираке затеянная Бушем кампания утратит легитимность даже в
кругах элиты. Уже можно заметить серьезную озабоченность широкого
внешнеполитического истеблишмента. Неоконсерваторы, окружающие Буша, стремились
использовать возможность, которая открылась с исчезновением восточного блока, и
уникальное положение, в котором оказались Соединенные Штаты. Ирония в том, что
теперь — даже в кругах элиты — их критикуют как раз за то, что они упустили
такую возможность.
Перевод с английского Артема Смирнова
Впервые опубликовано в журнале Прогнозис №6, 2006
Примечания:
1 Michael
Mann. Incoherent Empire. London : Verso,
2003; Noam Chomsky. Hegemony or Survival : America’s Quest for Global
Dominance. N.Y.: Metropolitan Books, 2003; David Harvey. The New Imperialism.
Oxford: Oxford University Press, 2003; Andrew Bacevich. American Empire: The
Realities and Consequences of US Diplomacy. Cambridge: Harvard
UniversityPress, 2002.
2 Анализ клинтоновского правления см.: Lawyers Committee on Nuclear
Policy and the Institute for Energy and Environmental Research, Rule of Power
or Rule of Law? An Assessment of US Policies and Actions Regarding Related
Treaties; Phyllis Bennis. Calling the Shots: How Washington Dominates Today’s .
N.Y.: Olive Branch Press, 2000.
3 См.: Hobson. The War in South Africa:
Its Causes and Effects. N.Y., 1900. Классическую критику этой точки зрения см.: Ronald Robinson and John
Gallaghar. Africa and the Victorians: The Official Mind of Imperialism. N.Y.:
St. Martin’s Press, 1965. Начиная с 1970 –х годов причины войны вновь
стали предметом серьезных споров, продолжающихся и по сей день. См. два последних обзора: Shula Marks. Rewriting the South
African War//H-Net Review. June 2003, http: // www.h-net.org
/reviews/showrqv.cgi?path=256731059637936; Peter Cain. And Imperialism:
radicalism, new liberalism, and finance 1887 – 1938. Oxford: Oxford University
Press, 2002. Chapter 8.
4 Hegemony or Survival. P.15.
5 В связи с Францией см.: Goerge Mct. Kahin. Intervention: How American Became Involved in Vietnam. N.Y.:
Doubleday, 1987. Ch.1 – 2; о Франции и
Японии см. также: Andrew Rotter.
The Path to
Vietnam: Origins of American to Southeast Asia. Ithaca: Cornell University
Press, 1987. Более общий обзор см.: Thomas
McCormic. America’s Half - Century. Baltimore: Johns Hopkins University Press,
1989.
6 См.: William Roger Louis and Ronald
Robinson. The Imperialism of Decolonization//The Journal of Imperial and
Commonwealth History. 1994. 22 (3).Pp.462–511.
7 Harvey. The New Imperialism. Pp.101–107.
8 Ibid. P.105.
9 Ibid. P.107.
10 Mann. Incoherent Empire. P.82.
11 Mann. Incoherent Empire. P.89.
12 Ron
Suskind and Paul O’Neill. The Price of Loyalty. N.Y.: Simon and Schuster, 2003.
13 Mann. Incoherent Empire. P.232 – 238.
14 Mann. Incoherent Empire. P.7.
15 Bacevich. P.142.
16 William
Clinton. A National Strategy for New Century. 1996. P. 8 (цит. по:
Bacevich. P. 127, N.31).
17 Bacevich. Pp.127, 222.
18 Chomsky.
Hegemony or Survival. Pp.16 –26.
19 Цит.по: Bacevich. P. 48.
20 Эта мысль была высказана в работе: Eugene Genovese and
Elizabeth Fox - Genovese. The Fruits of
Merchant Capital. Oxford,1984.





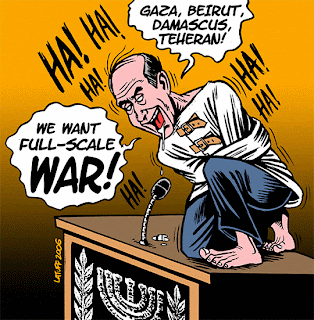



Комментариев нет:
Отправить комментарий